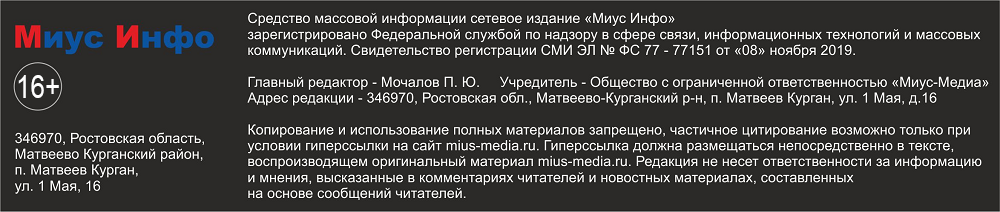Выжить чудом и помнить всю жизнь
 Все дальше от нас уходят военные годы. Семьдесят лет прошло, как освободили Миус. И все меньше остается их, тех, кто может рассказать, что такое война, кто видел наяву, КАК это было. Но они еще есть, эти живые люди. И среди них - те, кто цепкой памятью ребенка сохранил страшные, жестокие и правдивые воспоминания о войне. Нина Ивановна Харитонова – одна из них. На Страшном суде истории – свидетель, потерпевшая и обвинитель в одном лице. Я привожу ее рассказ почти без правки.
Все дальше от нас уходят военные годы. Семьдесят лет прошло, как освободили Миус. И все меньше остается их, тех, кто может рассказать, что такое война, кто видел наяву, КАК это было. Но они еще есть, эти живые люди. И среди них - те, кто цепкой памятью ребенка сохранил страшные, жестокие и правдивые воспоминания о войне. Нина Ивановна Харитонова – одна из них. На Страшном суде истории – свидетель, потерпевшая и обвинитель в одном лице. Я привожу ее рассказ почти без правки.
ДОВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Зовут меня Нина Ивановна. Родилась в 1936 году. Как началась война, мне было 5 лет.
Папа мой в трех войнах участвовал. В 35-м году женился, а 39-м уже в Финляндию воевать отправили. Вернулся, думал, дома жить будет. А его вызвали, однажды, вместе с другими мужиками, в «органы» и там сказали: «Коммунисты, шаг вперед!» Вышел, как и все. Всех в черный «воронок», ничего не объясняя, посадили и отправили аж в Испанию, фашистов бить.
Нашей семье потом за отца-военного еще и клеймо некоторое время пришлось носить, что он, дескать, дезертир, бежал куда-то, в военкомат не является. Потом, когда вернулся он из Испании, 40 ран на теле, извинялись все, что так низко думали о папе моем. А он чудом вернулся. Только потому, что немецкий язык, как немец, знал и блондином был. Тяжело ранили его в Испании, он сознание потерял. Немцы его нашли, а он им в бреду по-немецки отвечал что-то. Фашисты его приняли за своего. А папа мой, едва окреп, к нашим бежал.
Домой вернулся, едва живой. Родные все обрадовались отцу, а он говорит: «Не радуйтесь, скоро новая война будет. Уже на нашей земле». Так и вышло. Опять папу забрали. Больше я его не видела. Помню только, как он нас с сестрой на руках держит, а у него на груди красная звездочка блестит. В 42-м маме первая похоронка пришла: «Погиб под Москвой, похоронен возле клуба имени Сталина». А потом – вторая: «Погиб под Ржевом» и там, на братской могиле, ему памятник. Мы потом ездили туда, к этому памятнику.
В 42-м маме первая похоронка пришла: «Погиб под Москвой, похоронен возле клуба имени Сталина». А потом – вторая: «Погиб под Ржевом» и там, на братской могиле, ему памятник. Мы потом ездили туда, к этому памятнику.
Знаете, что самое ужасное? Что всю жизнь меня терзает и мучает? Я не знаю и никогда точно не узнаю, где на самом деле похоронен мой папа. Сын мой, Николай Викторович, когда был военкомом, искал деда по своим спискам. Погибших - под Москвой, Ржевом, Харьковом, Минском - Харченко Иванов Никитичей, полных тезок моего отца - 70 человек нашел. И ни один из них не числился призванным из Ростовской области, как папа мой… Потому не знаю я, где, в чьей земле отец мой лежит… Разве должно так быть?!
Жили мы до войны в Бышлерово, это сейчас хутор Свободный, что в Куйбышевском районе. Вокруг – сплошь немецкие колонии – от Матвеево-Курганской Надежды до Амросьевского Лисичьего. Немцы здесь еще чуть ни при Екатерине поселились, дома добротные из белого камня построили, хозяйство вели. Дед мой у них лошадей пас и упряжь мастерил, Никитой-Табунщиком его звали. Нашу семью в тех краях ровесники мои до сих пор не Харченковыми знают, а Табунщиковыми. А бабушка моя – кухаркой была у колонистов. Немцы их и поженили. Хату им за 2 недели, хоть и на окраине села, но сложили. Всех детей, что народились, а их 6 душ было, в немецкую школу определили. В моей семье все - и отец, и мама, и бабушка, и дед немецкий язык хорошо знали.
Так мы и жили. А как война началась, всех немцев из нашей «колонии» эвакуировали принудительно, в поезда погрузили и в Казахстан отправили. Почти ничего взять с собой не дали, все их добро в домах осталось. Некоторые из их «колонистов» с поезда сбежали, вернулись, вместе с нами фашистов встретили. Может, и были среди них предатели, я не знаю. Дедушка говорил, немецкую карту видел, а на ней не только по-немецки окрестные хутора черным были указаны, но и по-русски рядом наши, местные названия, красными чернилами кто-то написал.
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Немцы пришли днем. А вечером пришел скот. Не знаю, откуда и кто его гнал, но были тучи коров и свиней. А еще через три дня пришли немецкие обозы. Расселяться стали по брошенным домам. В нашей хате увидели портрет отца, «руссиш офицерен», маму с дедушкой заставили копать нам всем могилы, хотели всех расстрелять. Повезло. Наш, местный немец, дядька Субот, старостой ставший, за нас вступился. Сказал, что это не отец, а наш дальний родственник и фотографию велел спрятать, от греха подальше. Он, староста этот, потом часто вздыхал, что все у русского человека хорошо, только он за стакан водки да из зависти продать готов даже своего друга. И верно, пошли по окрестностям аресты и расстрелы всех партийных и военных. Выдал их кто-то немцам. И нашу семью стороной не обошло. Те, «первые», немцы, что фотографию отца на стене увидели, поняли, что моя сестра на него похожа. Господи, как они над ней, маленькой, издевались! Все пальчики у дитя покручены были, все глазки свернуты. Над колодцем ее за пальцы держат и вниз-вверх: «Айн, цвай, драй!» Чуть не утопили. Мама полы в комендатуре мыла, все бросила, прибежала, еле у них ее вымолила. Так они сестре позже яду дали. А потом – еще раз, в отравленной конфете. Она ослепла и умерла…
И нашу семью стороной не обошло. Те, «первые», немцы, что фотографию отца на стене увидели, поняли, что моя сестра на него похожа. Господи, как они над ней, маленькой, издевались! Все пальчики у дитя покручены были, все глазки свернуты. Над колодцем ее за пальцы держат и вниз-вверх: «Айн, цвай, драй!» Чуть не утопили. Мама полы в комендатуре мыла, все бросила, прибежала, еле у них ее вымолила. Так они сестре позже яду дали. А потом – еще раз, в отравленной конфете. Она ослепла и умерла…
Денщик у фрицев был, тоже из местных немцев, дедушка его «Бомба» звал, так он нас жалел, дедушке много рассказывал такого, что нам жизнь спасало. Особливо велел нас, детей, беречь, прятать, пока эти, «первые» немцы, дальше не уйдут, за Саур-могилу. «Вторые»-то фотографию отца на стене не видели, не узнают, чья мы семья.
Перед отъездом «первых», главный их, здоровенный, рыжий и рожа вся красная, сам по подвалам полез, расстрелять всех, кого сыщет, напоследок. Только в подвал, на лестницу, ступил, а тут его снарядом от русской пушки и накрыло. Голова по земле покатилась, а туловище в погреб упало. Мама говорила, бог его так наказал, за зверства над нами. Немцы его похоронили, а наши, местные, той же ночью выкопали, догола раздели и на дороге бросили. Собаке – собачья честь…
Ушли «первые» немцы, а на их место пришел карательный отряд «Мертвая голова». В черном все. Как сейчас помню, у главного на груди, на цепочке, бляха висела, а на ней - страшные череп и кости. Какие изверги были! Людей привязывали к лошадиному хвосту и гнали коня в чисто поле, пока и кости казнимого о землю не сотрутся. В колодцах топили. Слава богу, потом, говорят, приказ им какой-то пришел, чтоб местных не трогали. Нас, детей, стали собирать и учить говорить по-немецки. Наказывали, кто плохо учился. На соль, на колени ставили на полдня. Больно…
Однажды «Бомба» сказал, что назавтра вести будут через хутор наших военнопленных и что немцы всем велели из домов выйти и смотреть. Мы вышли. Не знаю, сколько их было, пленных, наверное, много. Помню только, что были они грязные, заросшие, кожа да кости. Один, молодой еще совсем, возле нашего дома упал и сознание потерял. Мы просить стали, чтоб немцы выходить его дали. Каратели с овчарками деду этого пленного отдали, велели через две недели на окраину хутора, где остальных поместили, привести. Так мы его выхаживать стали.
Остальных пленных за колючую проволоку посадили и, от голода и холода, медленно помирать оставили. Дядька Субот договорился, чтоб жителям разрешили хоть раз в день кормить пленных, кто чего даст. Немцы позволили, но велели не давать ни хлеба, ни мяса, ни овощей вареных. Только сырое зерно и гнилье всякое, сами еду проверяли. Однажды я с дедушкой пошла туда, понесла початки кукурузы. Так у них, пленных, даже сил подняться не было. Дед ломал об колено початки и за проволоку кидал им куски. На всех не хватило… Не знаю, куда эти люди потом делись. Но взрослые тогда говорили, что больше 2-3 месяцев там никто не выживал. А трупы потом хоть в ставок можно было кидать, рыбам…
А тот военнопленный, которого мы выходили, через две недели сбежал. И нас чуть не убили за него. Деда пытали, иглами под ногти кололи. Расстрелять уже собрались. Спасибо, староста, дядька Субот, отговорил.
А еще помню, 42-й год был, самое начало. Вечер. Наш самолет немцы сбили. Увидели, куда летчик спрыгнул, нашли его, на хутор привезли. Мы тогда уж не в хате, а в подвале жили. В хате – немцы. А с ними – два казака дебелых. Тоже среди них, казаков, было много предателей. Фрицы о наших пленных руки не марали, эти два прихлебателя сами летчика до смерти забили.
А ночью дед вышел во двор, а его наша собака за штаны тянет. Привела к навозной куче в огороде. А там – второй летчик лежит. Господи, куда его девать? В подвале – места нет. В хате – немцы. Не дай господь, узнают, вся семья погибнет, никого не пожалеют. Так дед его в загату за хатой отволок. Хата-то наша на краю хутора стояла. Вечно снегом ее заметало. Дедушка и заставлял ее с северной, «глухой» стены, хворостом и сухими подсолнечными бодылками, словно шалаш выходило. А называлось – загата. Там летчик тот и был спрятан. Нога у него пухла. Дедушка нашей собаке ногу отрезал. Потом пошел к немецкому доктору, мазь попросил, вроде как поранившейся собаке мазать рану. Так летчику ногу и спас. Тайком ему полмесяца еду ночью носил. Как расставались, летчик сказал: «Коли жив останусь, никогда тебя, отец, не забуду». Наверное, погиб, потому больше не вернулся. А может, остался жить? Может, все-таки, смог уйти? Ведь, поймай его фрицы, они б и нас убили. Так я и не знаю…
Потом и «вторые» немцы ушли за Саур-могилу. Пришли третьи. А с ними – румыны. Бричками их немцы привозили, возами. Ставили их по ночам часовыми, а утром по морозу собирали уже готовыми, мертвыми. И никогда рядом с немцами не хоронили.
Потом удирали на Саур-могилу и эти, «третьи». А у нас - колодец дома. Немцы лошадей, всех в пене, поили, а сестра моя младшая, в 42-м году родилась, выползла и прямо одной лошади под копыта. Мама закричал и за ней бросилась. Немец маму хлыстом ударил. На всю жизнь потом шрам остался…
И те казаки, немецкие прихлебатели, куда-то подевались. Дедушка говорил, не видел, чтоб они с немцами драпали. Наверное, почуяли, чья взяла, и пристроились в мирные жители, или в солдаты красной армии примазались. Такие – нигде не пропадут… Еще и ветеранами назовутся… Мы, после, нашли в их брошенных вещах парашют, что у нашего летчика был. Мама его бузиновым соком покрасила и пошила нам платья. Потом мы в них в школу ходили.
Ночью, после ухода немцев, слышим: топ-топ-топ. Дедушка тихонько из погреба выглянул: наши! Плакать стал: «Сыночки!» Они ему и сказали, что отправиться нам надо аж за Куйбышево, потому что немцы далеко не ушли, и утром тут такое начнется, что камня на камне не останется.
Утром и правда, по Донбасскому шляху наши танки пошли, а по небу самолеты полетели тучей. Поднялось, черное все, словно буря, не поймешь, где небо, где земля. Я видела, слышала, как стреляли наши «Катюши». Как было страшно! Казалось, что вся земля вокруг пылает и все горит под моими ногами…
ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Так кончилась война у нас, в Бышлерово. А потом мы пухли с голоду и просили милостыню. Выжили чудом. Мама собрала все вещи, которые были, и поехала с другими женщинами менять их на семена. Долго не возвращалась, потому что там простудилась и заболела. Пока ее не было, заболел и умер дедушка. Господи, что мы ели, каким святым духом выживали! Собирали по ямам и погребам обгоревшее, прелое зерно, мыли, мололи и жевали его. Лебеду запаривали, крапиву и какие-то грибы, словно посыпанные манной крупой по шляпкам. Почему сейчас я не нахожу таких грибов? Бабушка говорила, они даже пахнут курицей…
Наконец, мама вернулась. Привезла полведра кукурузы, банку бобов, стакан гречки. Дедушкина сестра из Политотдельского дала нам горсть тыквенных семечек. Еще кто-то – несколько штук рассады помидоров и капусты. Мы так радовались, что своя еда будет осенью…
Начали восстанавливать колхоз. На Успенку привезли зерно. Всем жителям раздали нормы, сколько каждый должен на себе от Успенки до нашего Бышлерово принести, лошадей-то нету. А как нести? Мама от голода еле ноги переставляет. Меня взяла: «Неси, деточка, хоть одно ведерочко». Несу, вместе с мамой и другими бабами. Они идут все, шатаются, по три-четыре ведра на себе тянут, и кто песни жалостливые поет, кто плачет.
Потом сеяли это зерно. Бабы помоложе впрягаются вместо лошадей и пашут, старухи – зерно из фартуков по земле сыплют, а мы, малолетки, граблями его заволачиваем. Какой уж тут урожай… На год нам, на семью, осенью полмешка пшеницы и полмешка ячменя выдали. Да за погибшего отца пятнадцать рублей ежегодно, до нашего совершеннолетия, положили. Такая вышла жизнь. Только свой огород и спасал.
Мама днями дома не была. В колхоз привезли двух стельных коров и двух беременных свиноматок. Так она и ночевала с ними, стерегла, чтоб не украли и не съели. А ну, голод какой! Хотя, и люди жалостливее были, не чета нынешним. Помогали всяко друг дружке, последним делились. Правда и другие были.
Мы, дети, ходили по селам, милостыню просили. Где лепеник какой дадут, где картошку. В один большой, богатый, видно, дом постучали, вышел здоровый дядька с собакой. Мы стали его просить дать нам хоть что-то. А он: «Идите отсюда, а то сейчас собаку на вас спущу! Где ваш батька?» Мы ему: «Нету у нас батька, на войне его немцы убили». Он рожу повернул, оскалился и говорит: «Значит, плохо воевал ваш батька, раз его убили». Как мне обидно стало! Ушла тогда, слезы утирая. И всю жизнь потом жалела, что не нашла его, взрослая, в морду его поганую не плюнула. Не спросила, хорошо ли он воевал, и воевал или вообще, раз живой и здоровый остался. Раз за чьей-то спиной в войну спрятался, а после - нам, детям, кусок макухи или лепеник из лебеды пожалел.
Но мы выжили. И мама нас в детдом не отдала. Только школу-семилетку я так и не закончила, хотя учителя у нас добрые были, словно матери. Но далеко была школа, в Куйбышево, а это 10 километров. А у нас всей одежды – только платья, из парашюта пошитые. А из обуви – сапоги трофейные, 45 размера. Дома-то и вовсе голышом да босиком бегали, нечего было носить. Тетрадки нам хлопцы проволоками из старых листков оберточной бумаги связали. Но писать в них тоже нечем было. Кроме камешков из песка, что желтым мажутся, да по земле, словно мелок, рисуют, не было других карандашей. Жаль, не сфотографировал нас тогда никто. Какие мы были смешные ученики! Один – левая нога в галоше, а правая – в шерстяном тапочке, второй – босой, третий – в сапогах 45 размера, из которых оба - правые. Так я и не закончила школу, пошла работать. И тридцать пять лет работала. Всю жизнь…
Такое было детство. А веселье? Было веселье. Это когда мы с подружкой, переселенкой с Донбасса, ничего никому не сказав, поехали к ней на родину, милостыню просить. И в товарном вагоне столкнулись со взрослыми парнями, чуть не бандитами, собиравшими с ехавших свою «милостину». С поезда не знамо, на какой станции, на полном ходу спрыгнули, побились все, ободрались, непонятно, как живы остались. Наревелись от души. Потом, грязные, побитые, голодные, домой сутки по рельсам шли. А вокруг – ни поездов, ни людей. Один бурьян, заросли и волки воют. Только на Успенке нас какой-то старик, железнодорожник, увидел. Говорит: «Господи, как же волки вас не съели?» Мы ему: «Нас, дяденька, бабушка научила, как волка увидим, на землю ложиться и притворяться мертвыми. Так мы и сделали. Волк подошел к нам, понюхал, а потом сел на зад, морду задрал и завыл. Повыл немного, и убежал». Железнодорожник смеется: «Дак, то он у бога и спрашивал, есть ему вас или нет». А мы ему: «Наверное, бог ему сказал, чтоб он нас не ел, раз мы живые?» «Точно, - железнодорожник отвечает. – Так он ему и сказал»… Смешно сейчас, а тогда, ночью, мы долго на земле лежали и плакали, все ждали, когда этот волк за нами вернется…
Только я теперь из моих земляков живая осталась. Одни уж умерли. Другие, как моя сестра, малы были, ничего не знают. Третьи вовсе приехали из других мест, ничего этого не видели. Они не помнят. А я – помню. И, проведи меня сегодня по хутору, я все покажу, словно это было вчера. И где зенитки стояли, и где снаряды лежали, и где немецкие ходы сообщения были, и где наших пленных держали, и где немцы своих хоронили. Я с закрытыми глазами там и сейчас пройти могу.
Бабушка моя говорила о себе: «Всю жизнь я проплакала, всю жизнь прорыдала». И мама так сказать о себе могла. И я. Сами. Сами и выживали, и строили, и поднимались, и учились, и детей растили. Все на своем горбу несли. Никто не помогал. Ничего с неба не падало. А сейчас вот – станет горько на душе – я фотографии смотрю. И опять плачу. За папой моим. За мамой. За всеми. От войны плачу. От того, что помню. Это так тяжело – выжить и помнить…
Я слушала ее, смотрела, как эта немолодая, седая женщина с чистым и светлым лицом, мешающая украинские и русские слова, утирает слезы, и думала, что, наверное, она, сумев это - «выжить и помнить», и сделала для нас, молодых, две самые трудные вещи на земле…
Елена Мотыжева
Фото – автора и из семейного архива семьи Харитоновых
.jpg)


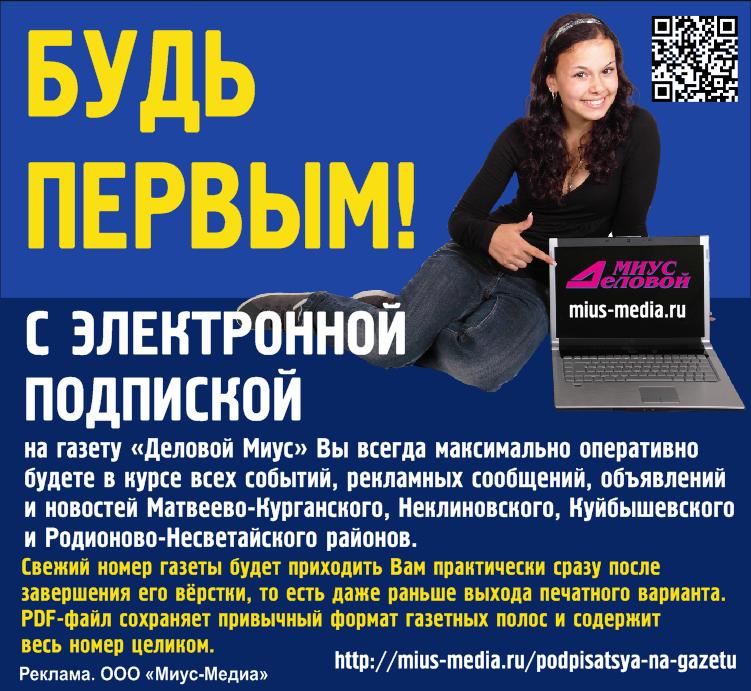
.jpg)
1.jpg)